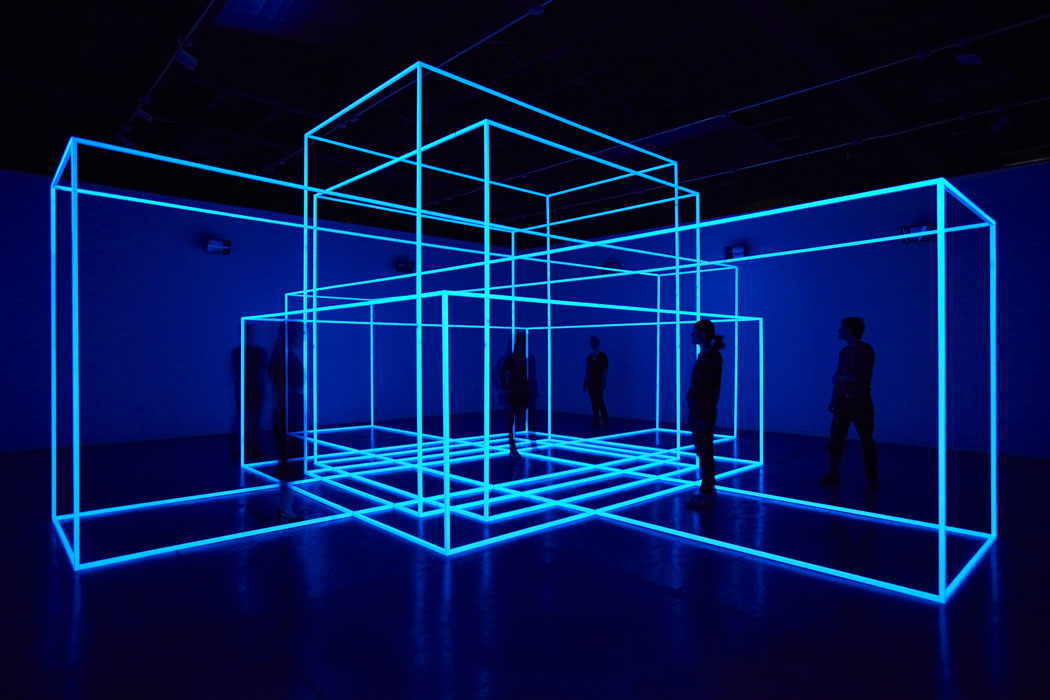Алан Кирби заявляет: постмодернизм мертв. Его место заняла новая парадигма авторитета и знаний, сформированная под давлением развивающихся технологий и современных социальных сил.
На столе передо мной лежит учебный модуль, скачанный с сайта кафедры английского языка одного из британских университетов. В нём — подробная информация об учебных заданиях и годовой список книг для чтения, с опциональным блоком «Постмодернистская литература». Название университета я опустил не из-за того, что список выглядит позорным с моей литературоведческой точки зрения, но оттого, что он ловко демонстрирует программу — или её часть, — которая будет преподаваться практически на каждой кафедре английского языка во всём мире в этом академическом году. Наводит на мысль, что постмодернизм живет и здравствует: в списке отмечается, что студентам представят «общие темы постмодернизма и постмодерна путём исследования их взаимоотношений с современной художественной литературой». Потому и кажется, что постмодернизм вполне современен … но нет. Сравнение только подчёркивает факт его смерти.
Постмодернистская философия всегда особо подчёркивала неуловимость смысла и знания как таковых, что в искусстве той поры выражалось обеспокоенностью автора внешней репрезентацией и ироническим самосознанием. И философия же доводами подкрепила дискуссию о закате устаревшей парадигмы. Некоторые теоретики говорили, что, пускай и ненадолго, мы действительно поверили в постмодернистские идеи; но в настоящий момент это не так: мы верны критическому реализму. Слабость их анализа в том, что он сконцентрирован на академических изысканиях, на практиках и предположениях философов, которые не имеют четкого мнения по этому вопросу или не раз его изменили, — из-за чего многие академики попросту решат, что, в конце концов, предпочтительнее придерживаться теорий Фуко, считающегося архипостмодернистом, чем переходить к размышлениям о чём-то новом. Но всё же убедительнее будет сказать, что постмодернизм умер; стоит только разглядеть за спинами академиков продукцию современной культуры.
Большинство магистрантов, которым сегодня предстоит изучать курс литературы постмодернизма, появились на свет в 1985-м году или даже позже, а тем временем все книги изученного мной курса, кроме одной из основных, были написаны до их рождения. Не имеющие ничего общего с современностью, эти книги были опубликованы в совсем другом мире, отличном о того, в котором родились сегодняшние студенты: «Любовница французского лейтенанта», «Ночи в цирке», «Если однажды зимней ночью путник…», «Мечтают ли дроиды об электроовцах?», «Белый шум». А некоторые из произведений, например, «Вавилонская библиотека», были написаны даже до родителей магистрантов. Поставь взамен одних книг другие, из числа работ постмодернистов-сменщиков — «Попугай Флобера», «Возлюбленная», «Земля воды», «Выкрикивая лот №49», «Бледный огонь», «Бойня номер пять», «Ланарк: жизнь в четырех книгах», «Нейромант» или что-нибудь от Брайанта Стэнли Джонсона — и будет ровно тот же результат. Они современны не больше, чем группа «The Smiths», накладные подушки для увеличения бёдер или видеомагнитофоны «Бетамакс». В своё время своим содержанием эти тексты вступили в борьбу с только-только появившейся рок-музыкой и телевидением; по большему счёту, в них авторы не размышляли — не было причин — даже о возможном появлении современных технологий и средств коммуникации — мобильных телефонов, электронной почты, интернета и компьютеров, мощных настолько, что они способны запустить человека на Луну; а ведь это всё новые студенты принимают как должное.
Причина, по которой в программу изучения постмодернистской литературы входят столь старые произведения, в том, что список её не обновляется. Да просто взгляните на рынок культуры: купите романы, опубликованные за последние пять лет, посмотрите нынешние фильмы, послушайте самую свежую музыку или посидите перед телевизором недельку, что чревато, — и вы едва ли где-то заметите проблески постмодернизма. Можете отправиться на любую литературную конференцию, как я в июле, и высидеть дюжину лекций, в которых даже близко не упомянут ни Теорию, ни работы Деррида, Фуко, Бодрийяра. Ощущение того, что Теория отслужила своё, ощущение её бессилия и ненужности академикам в таком объёме тоже тесно связано с увяданием этого культурного течения.
Люди, которые сегодня производят культурный продукт и которые его потребляют — слушают, смотрят, читают, — просто отказались от идей постмодернизма, от его форм. Конечно, иногда метатексты будут появляться перед взором людей — к повсеместному их безразличию, как «Лунапарк» Брета Истона Эллиса; с другой стороны, ныне забытые модернистские романы публиковались даже в 50-60-х годах. Единственное место, где постмодернизм существует теперь — детская мультипликация наподобие «Шрека» и «Суперсемейки», этакая подачка родителям, вынужденным сидеть бок о бок со своими малышами. Это тот уровень, до которого ныне опустился постмодернизм: стать источником ориентированных на дошкольников маргинальных обывательских гэгов, собранных в поп-культуре.
Что такое пост-постмодернизм?
Я верю, что сдвиг к нынешнему состоянию постмодерна — нечто большее, чем простое изменение культурной моды. Условия, при которых некогда размышляли о власти, знаниях, индивидуальности, реальности и времени, изменились внезапно и навсегда. Пропасть между большинством лекторов и их студентами сродни той, которая образовалась в конце 60-х, но причины её появления иного рода. Сдвиг от модернизма к постмодернизму не проистекал из некоего основательного переформулирования установок в условиях культурного производства и потребления; если пускаться в риторику, случилось всего-навсего то, что однажды написавшие «Улисса» и «К маяку» взамен создали «Бледный огонь» и «Кровавую комнату». Но где-то в конце 90-х — начале 00-х развитие новых технологий сильно и необратимо реструктурировало природу автора, читателя, текста и отношений между ними.
Постмодернизм, как модернизм и романтизм до него, фетишизировал [т.е. придавал ему важнейшее значение] автора, даже когда тот предпочёл обвинять самого себя или симулировал самоликвидацию. Но та культура, которая есть у нас сейчас, обожествляет потребителя текста до такой степени, что он становится частью — или всецело — автором произведения. Оптимисты, возможно, разглядят в этом демократизацию культуры; пессимисты укажут на мучительную пошлость и пустоту культурной продукции, создаваемой подобным образом.
Позвольте объяснить. Постмодернизм понимал современную культуру как зрелище, которое доводило индивида до бессилия и в котором проблематизировались вопросы реальности и реального. Поэтому он акцентировался на телевидении и киноэкране. Его наследник же — назову его псевдомодернизмом — превратил действия индивида в необходимое условие существования культурного продукта. Псевдомодернизм включает в себя все телевизионные и радиопрограммы, все «тексты», чей контент и динамика напрямую зависят от участия зрителя или слушателя (хотя оба этих термина — «зритель», «слушатель» — устарели в связи с их пассивностью и акцентом сугубо на приём: неважно, что делают участники голосования «Большого Брата» или трезвонящие в эфир «606» футбольные фанаты, но они не просто смотрят и слушают).
По определению, продукт псеводомодернистской культуры не может и не существует без физического вмешательства индивида в его производство. Вот «Большие надежды» будут существовать в материальном пространстве независимо от того, читает кто-нибудь книгу или нет. После того, как Диккенс закончил писать и издатель опубликовал её, материальная текстуализация — избранный в ней порядок слов — завершена, хотя значения этой текстуализации в том понимании, как люди интерпретируют книгу, остались бы по большей части общедоступными для любых трактовок. Получается, что материальное производство и содержание книги были определены поставщиками — автором, издателем и т.д. — в одиночку, только смысл и интерпретация остались областью, доступной читателям. С другой стороны, шоу «Большой Брат», если рассматривать типичный псевдомодернистский текст, не существовало бы в физическом мире, если бы никто не звонил голосовать за или против участников. Голосование — это часть материальной текстуализации программы, звонящие зрители как бы пишут шоу самостоятельно. Если бы зрители не могли прописать участки «Большого Брата», ситуация бы зловеще напоминала фильм Энди Уорхола: невротические молодые люди вяло скулят и бесцельно болтаются в комнатах дома — и так час за часом. Что делает «Большого Брата» именно шоу, так это зрительский акт — звонок, в данном случае.
Псевдомодернизм охватывает также современные ТВ-программы, чей контент всё больше состоит из мэйлов и SMS, отправленных в комментарии, бегущей строкой расчерчивающие новости. Терминология интерактивности неприемлема и здесь, поскольку обмена нет; вместо этого, зритель входит в программу, пишет её сегмент и затем выходит, возвращаясь к пассивной роли. Псевдомодернизм включает компьютерные игры, которые помещают индивида в контекст, где тот изобретает культурный контент в заранее обозначенных пределах. И содержимое каждого индивидуального акта игры зависит от конкретного игрока.
Другой псевдомодернистский культурный феномен — Интернет. Его центральный акт состоит в том, что индивид, кликая мышкой, двигается сквозь страницы таким образом, который не может быть повторен, прокладывает сквозь культурную продукцию тропу, которой не было прежде и не будет после. Это куда более интенсивное взаимодействие с культурным процессом, чем могла бы предложить литература, и оно даёт явное чувство (или иллюзию) индивидуального контроля, управления, сопричастности к культурному миру. У страниц Интернета нет автора, вряд ли пользователь знает, кто написал их и кто их модерирует. Большинство из этих мифических авторов либо требуют, чтобы индивид выполнял их работу — как в Streetmap или RoutePlanner, — либо позволяют ему присоединиться к их числу, как в Википедии, либо просят оставить фидбэк, как на сайтах СМИ. В любом случае, главное свойство Интернета — возможность пользователя самостоятельно создавать страницы, к примеру, блоги.
Интернет преобладает в псевдомодернизме и определяет его; однако, в новую эпоху наблюдается модернизация и старых форм. То же кино всё больше и больше напоминает компьютерную игру. Образы, некогда пришедшие из реального мира — превращённые в кадры на съёмочной площадке, подогнанные под музыку и отредактированные гениальными режиссёрами, желающими управлять мыслями и эмоциями зрителя, — теперь всё чаще создаются с помощью компьютера. И выглядят компьютерными. Там, где некогда спецэффекты, как предполагалось, превращали невероятное в правдоподобное, CGI сегодня часто, иногда непреднамеренно, работает так, что вероятное выглядит ненатурально. Примеры тому — многие кадры «Властелина Колец» или «Гладиатора». Да, многотысячные битвы действительно случаются, но в псевдомодернистском кино они выглядят так, как если бы они происходили только в киберпространстве. Так, кино сдало свои культурные позиции не только компьютеру, который теперь генерирует образы, но и компьютерным играм, которые моделируют отношения со зрителем.
Аналогично, в эпоху псевдомодернизма телевидение покровительствует развитию не только реалити-шоу (это, кстати, неуместный термин), но и всевозможным «магазинам на диване» и викторинам, где зритель звонит в студию, чтобы отгадать загадку в надежде выиграть деньги. Телевидение благосклонно и к явлениям типа Ceefax и телетекста. Но вместо того, чтобы ныть над сложившейся ситуацией, полезно найти решение, позволяющее сделать эти новые условия пригодными для распространения культурных ценностей взамен пустоты, в настоящее время очевидной. Очень важно понять, что в то время как форма контакта может измениться (шоу «Большой Брат», вероятно, увянет), условия, при которых индивиды связывают себя с телевизионным экраном и в которых, следовательно, вещают теле- и радиоведущие, уже трансформировались. Чисто «впечатлительная» функция телевидения, как и всего искусства, стала незначительной: центрально место сейчас занимает деятельная, активная ковка человека, который бы стал получателем информации. При всём при этом, зритель чувствует себя сильным и действительно нужным; зато автор — в традиционном понимании — либо принижается до статуса того, кто просто устанавливает параметры, с которыми работают зрители, либо становится совершенно незначительным, вынесенным за пределы процесса; а «текст» одновременно характеризуется и своей гиперэфемерностью и своей нестабильностью. Зритель определяет текст — если не его содержание, то хотя бы последовательность фрагментов; вы бы не стали читать «Миддлмарч» Джорджа Эллиота, перескакивая со страницы на страницу — с 118 на 316, на 401, на 501, но вы вполне и по праву можете прочесть таким образом телетекст.
Жизнь псевдомодернистского текста исключительно коротка. В отличие от, скажем, сериала «Башни Фолти», реалити-шоу нельзя повторить в их оригинальной форме, поскольку случайные звонки в эфир заново не воспроизвести, а без возможности звонка подобные шоу становятся иной, менее привлекательной сущностью. Ceefax’овский текст умер спустя пару часов. Если учёные, ссылаясь на веб-страницы, уточняют дату акта, то лишь потому, что страницы слишком быстро исчезают или начинают существовать в изменённом виде. Текстовые сообщения и емэйлы чрезвычайно сложно сохранить в их первоначальном виде; распечатка емэйл-сообщения превращает его в нечто стабильное, как и письмо, но привычное для него состояние — электронное — уничтожается. «Горячие линии» радио, компьютерные игры — их срок годности краток, они устаревают слишком быстро. Культура, сформированная такими вещами, не может иметь памяти — нет того тяжкого ощущения предшествующего культурного наследия, которое испытывали модернизм и постмодернизм. Невоспроизводимый и мимолётный, псевдомодернизм страдает амнезией: есть только культурные акты настоящего, не связанные ни с будущим, ни с прошлым.
Я уже наводил вас на мысль, что культурная продукция псевдомодернизма банальна. Содержание псевдомодернистских фильмов обычно полно действий, которые создают намёк на жизнь — и тут же его уничтожают. Ребяческий примитивизм сценария резко контрастирует с изысканностью технических эффектов современного кинематографа. Большинство текстовых сообщений бессодержательны и пусты в сравнении с тем, что образованные люди писали друг другу в прошлой эпохе. Во всём доминируют пошлость и мелкость. Псевдомодернистская эра, по крайней мере сейчас, — культурная пустыня. Хотя, вероятно, со временем мы настолько привыкнем к новым условиям, что сможем художественно и осмысленно в них выражаться (и тогда можно будет прекратить использование данного мной уничижительного ярлыка «псевдомодернизм»), в настоящее время мы в самом центре шторма производственной активности человечества, когда нет почти ничего сколько-нибудь стабильного и имеющего воспроизводимую культурную ценность — всего того, на что человечество могло бы взглянуть через пятьдесят-двести лет и оценить как-то иначе.
Корни псевдомодернизма прослеживаются в периоде, когда доминировал постмодернизм. К примеру, танцевальная музыка и порноиндустрия — продукты конца 70-80-х — эфемерны, бессодержательны на уровне знаков и лишены выраженного авторства; эти черты присущи танцевальной музыке даже больше, чем року или попсе. В приоритете, опять же, активности по их потреблению: танцевальная музыка нужна, чтобы под нее танцевать, порно не для просмотра, но чтобы использовать его тем способом, который порождает псевдомодернистскую иллюзию участия. В музыке псевдомодернизма произошло вытеснение формата «сольника» (где доминирует один исполнитель) как монолитного текста; произошло из-за того, что слушатель начал скачивать, комбинировать и подбирать треки отдельных исполнителей на iPod’е; безусловно, это было предвосхищено ещё поколение назад, когда музыкальные фэны записывали кассеты-сборники. Но разгорелся тренд, и то, что когда-то было обычным времяпрепровождением, стало превалирующим способом потребления музыки, что делает устаревшей идею альбома как единого произведения искусства, тела с интегрированным в него смыслом.
В некоторой степени, псевдомодернизм — не более чем технологически обоснованный сдвиг в культуре к центру того, что существовало всегда; аналогично, метапроза была и прежде, но никогда так не фетишизировалась, как в эпоху постмодернизма. Телевизор постоянно пользовался участием зрителей, как это делали до него театр и другие перфомативные искусства, но зрительский акт лишь дополнял, а не был необходимостью: ныне же акт участия сразу же встраивается в телепрограмму. Активные культурные формы — от карнавала до пантомимы — существуют очень давно. Но существование ни одной из этих форм не предполагалось в виде письменного или иного материального текста, хотя проявились они [формы] именно в культуре, которая фетишизировала такие тексты; тогда как сегодня псевдомодернистский текст со всеми его особенностями выступает как центральная, доминирующая парадигматическая форма культурной продукции, хотя культура всё ещё знает и другие. Но не следует эти иные формы клеймить «пассивными» против псевдомодернистских «активных». Чтение, прослушивание музыки или просмотр видео всегда были активными; но в действиях псевдомодернистского автора есть телесность (читайте о «симуляции» у Бодрийяра и «текстуальном теле» у Барта), и необходимость его актов в отношении структуры текста — в дополнение к имеющемуся господствованию новой формы, которое изменило культурный баланс сил (обратите внимание, как кино и телевидение, вчерашние гиганты, склонили перед ней голову). Это принимает вид социально-историко-культурной гегемонии двадцать первого века. Кроме того, активность псевдомодернизма имеет свою специфику: она электронная, текстуальная, но эфемерная.
Щелчок в изменениях
Действие в постмодернизме, как и до него, — читать, смотреть, слушать; в псевдомодернизме — звонить, кликать, нажимать кнопки, сёрфить, сёрчить, свайпить и скачивать. В этом и разрыв между поколениями, приблизительное разделение людей на родившихся до и после 1980-го. Родившиеся позже, вероятно, видят сверстников свободными, независимыми, изобретательными, динамичными и энергичными, такими, чьи голоса в общей массе уникальные, рельефные и слышимые; постмодернизм же — в том числе и более ранние парадигмы — будет казаться им элитарным, скучным, далеким от реальности монотонным монологом, который угнетает и поглощает их. Появившиеся на свет до 1980-го, наоборот, увидят в современниках не людей, но тексты, попеременно жестокие, порнографичные, нереальные, тривиальные, пресные, конформистские, чрезмерно потребительские, бессмысленные, безмозглые (взгляните, к примеру, какую бессмысленную чушь пишут на некоторых страницах Википедии или сколь мало контекста в Сифаксе). «Довосьмидесятникам» будет казаться, что всё появившееся до прихода псевдомодернизма принадлежит золотой эпохе интеллигенции, творчества, бунта и подлинности. Поэтому псевдомодернизм у них ассоциируется с напряжённостью, возникающей, когда с помощью изощрённых технологических средств передаётся безвкусный и глупый контент; здесь культурный момент подытожен в бессмысленности сообщения типа «Я в автобусе», отправленного пользователем мобильного телефона.
В то время как постмодернизм ставил «реальность» под вопрос, псевдомодернизм определяет её косвенно, как «я», как «сейчас», взаимодействуя со своими же текстами. Таким образом, псевдомодернизм предполагает, что реальность — это то, что уже существует или делается, и псевдомодернистский текст может воплощать всё очевидно реальное в несложных формах: этакая документалистика пополам с мыльной оперой, с её трясущимися камерами (которые дают зрителю иллюзию счастья, изображая героев понимающими, что ими интересуются); таковы сериал «Офис» и фильм «Ведьма из Блэр», интерактивная порнография и реалити-шоу; эссеподобное, полемичное кино Мура и Спэрлока и т.д.
Вслед за принятием нового взгляда на реальность стало ясно, что господствующие основы мышления тоже изменились. Пока продукты постмодернистской культуры были преданы тому же «историческому консервированию», какое в своё время пережили модернизм и романтизм, заложенные им [постмодернизмом] интеллектуальные тенденции — феминизм, постколониализм и т. д. — сегодня оказываются изолированными в новой философской среде. Академия — говоря о ней как о целом институте сегодня, особенно в Британии, настолько завалена предположениями и практиками, пришедшими из рыночной экономики, что представляется совершенно неправдоподобным, будто академики могут рассказать своим студентам о том, что они живут в постмодернистском мире с его многообразием идеологий, мировоззрений и уникальных, живых голосов. Каждый шаг академиков контролирует рынок, они не могут проповедовать разнообразие, когда их жизни находятся во власти того, что на практике сводится к потребительскому фанатизму. За последние десять лет мир не стал шире мыслить, но, наоборот, сузился интеллектуально. Там, где Лиотар некогда увидел крах Великих Нарративов, псевдомодернизм видит идеологию разрастания рыночной экономики, поднятой до уровня единственного и неодолимого регулятора социальной активности — монополистического, всепоглощающего и всеразъясняющего; и это состояние должен признать каждый академик, как бы не было ему неприятно. Псевдомодернизм — парадигма приспособленчества, вовлечения в потребление; и весь мир движется в этом направлении, как если б его раздали или перепродали частями.
В то время как постмодернизм потакал всему ироничному, проницательному и игривому — с их аллюзиями на знание, историю и двойственность, — типичными для псевдомодернизма интеллектуальными состояниями являются невежество, фанатизм и тревога: Буш, Блэр, Бен Ладен, Ле Пен и подобные им с одной стороны, и более многочисленные, но менее влиятельные массы с другой. Псевдомодернизм принадлежит миру, полному столкновений между фанатичными религиозными общинами США, в значительной степени светским, но чрезмерно религиозным Израилем и мятежными группами мусульман, разбросанными по всей Земле. Конечно, псевдомодернизм не родился 11 сентября, но под завалами Башен-близнецов погребён именно постмодернизм. В контексте этого видно, что псевдомодернизм понукает фантастически сложными технологиями, при этом стремясь к средневековому варварству — когда загружают видео с казнями в Интернет, снимают на сотовый пытки в тюрьмах и т.п. Вне этого судьба остальных людей — страдать в извечном беспокойстве попасть под перекрёстный огонь.
Но это фаталистическое беспокойство распространяется далеко за пределы геополитики, связывается с каждым аспектом современной жизни; от всеобщего страха социального упадка и потери себя как личности до укоренившейся тревоги за здоровье и питание; от переживаний по поводу деструктивных климатических изменений до последствий персональной некомпетентности и беспомощности, о которых кричит современное телевидение, попутно разъясняющее, как правильно убраться в доме, воспитать детей или остаться платёжеспособным. Это абсолютно современная технологизированная невежественность: человек псевдомодернизма постоянно, в любое время может общаться с кем-то с другой стороны планеты, но ему же необходимо разъяснить, что для здоровья нужно есть овощи — факт, который был известен даже в Бронзовую эпоху. Человек может управлять телевизионными программами, но не знает, как ему что-нибудь съесть — более чем характерный сплав несерьёзного и продвинутого, беспомощного и мощного. По разным причинам, эти люди не обладают «неверием в Большие Нарративы» — чертой, которая была вполне типичной, по утверждению Лиотара, для постмодернистов.
Псевдомодернистский мир, такой страшный и, казалось бы, неуправляемый, подпитывается желанием вернуться к инфантильной игре, атрибуты которой тоже характеризуют псевдомодернистский культурный мир. Принятая здесь типичная эмоциональная установка, полностью заменяющая ироническое гиперсознание — транс, состояние существования индивида, полностью поглощённого внешней деятельностью. Взамен невроза модернизма и постмодернистского нарциссизма, на месте упразднённого им мира псевдомодерн создает новую, невесомую пустоту безмолвного аутизма. Ты кликаешь, ты жмёшь кнопки, ты вовлечён, поглощён, вечно в состоянии принятия решения. Ты текст, у которого нет «автора»; и не ничего кроме, нет иного времени и места. Ты свободен. Ты текст. А текст вытесняется.
Примечания переводчика:
Перевод: Станислав Онасенко
Автор: Алан Кирби, профессор
Оригинал: The Death of Postmodernism And Beyond, 2006