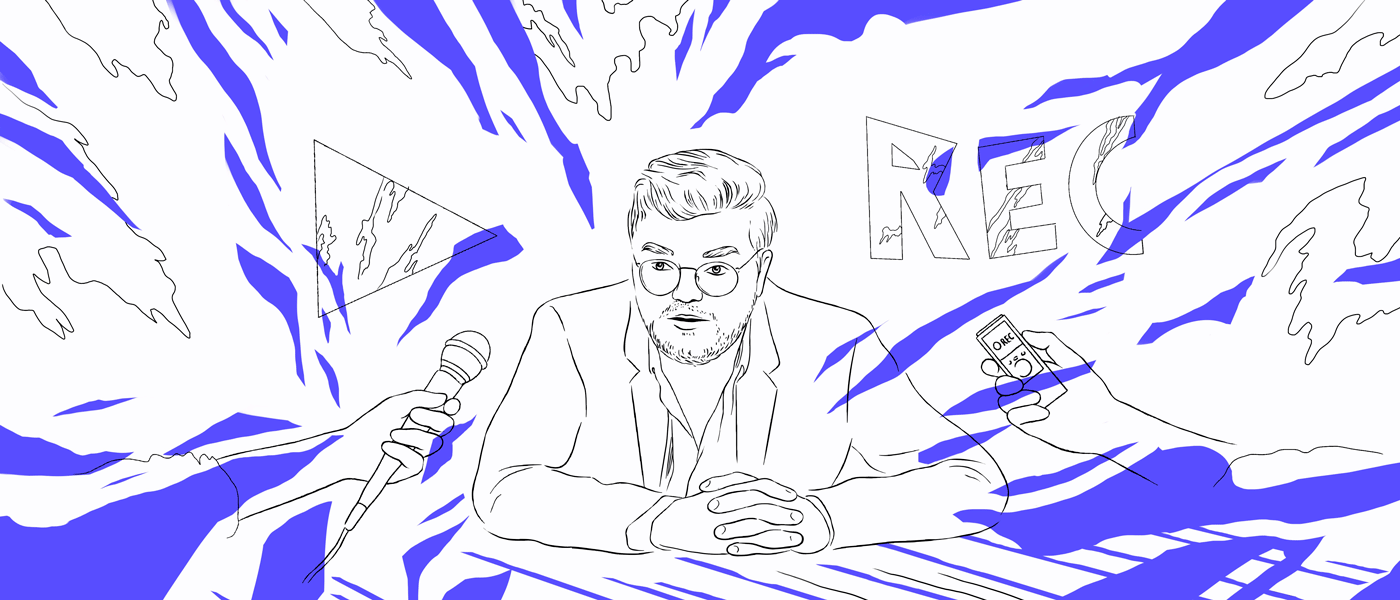7 декабря 2019 года Робин ван ден Аккер приезжал в Москву на презентацию русского перевода книги «Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма».
Мари Миндиашвили и Светлана Наумова взяли у него интервью, где поговорили про смерть автора, спекулятивный реализм и современные тенденции в архитектуре, а так же задали вопросы от наших читателей.
— Когда мы говорим о модернизме или постмодернизме, мы не просто затрагиваем какой-то исторический период, очерченный временем, мы говорим о четкой системе ценностей и посылов. Эти ценности, методы или инструменты не только привязаны к конкретному историческому периоду и времени, но как бы выходят за рамки и проходят через всю историю культуры. Например, постмодернистские методы настолько фундаментальны, что их истоки можно обнаружить еще в романе Пушкина «Граф Нулин». Можно ли сказать, что метамодернизм задает подобные фундаментальные посылы, импульсы? Что метамодернизм сказал того, чего не было в авангарде, модернизме или постмодернизме?
Конечно стили могут быть историческими и антиисторическими. И, конечно, метамодернистская система ценностей, методов и инструментов, как Вы говорите, может быть найдена также и в остальных эпохах. Это касается и постмодернизма — абсолютно верно. Когда вы историзируете что-либо, какой-либо стиль, важным оказывается понять, насколько этот стиль был привилегирован, насколько широко он был распространен. И когда Вы это понимаете, Вы начинаете видеть, что в определенные периоды, в определенные моменты истории люди склоняются к определенным культурным предпочтениям, к определенным способам культурного мышления или к определенным художественным методам. Когда стили устаревают, они внезапно начинают занимать центральную сцену, в то время как мыслящие личности [эго] находятся в стороне. Именно поэтому мы никогда не говорим о тоталитарном типе стиля. Таким образом, доминирующая структура чувств или гегемонистская структура чувств (как бы вы это ни называли) существует в различных других стилях.
По крайней мере, можем посмотреть на исторические и художественные традиции как на непрерывное движение к равновесию в конкретных моментах, ожидая, что стили изменят свою конфигурацию, и те направления, которые некогда были на обочине, когда-нибудь смогут занять доминирующее расположение на центральной сцене.
Когда вы изучаете архитектуру, становится очевидным, что люди строят различными способами в соответствии с конкретным периодом и с конкретными технологическими возможностями того времени. То, что вы делаете в соответствии с техническими достижениями, может стать доминирующим способом мышления и производства. На сегодняшний день легко можно идентифицировать своего рода доминанты модернистских стратегий и эстетики текущего времени, которые все еще существуют в других исторических моментах, так как все равно построены в модернистском ключе. Вы также начинаете видеть, что все доминирующие стили являются очень органичным взглядом на происходящие изменения. Более того, их можно рассматривать как реконфигурацию всего спектра сегодняшних возможностей и определение наиболее популярного или доминирующего способа мышления.
— Нам бы хотелось остановиться на сходствах и различиях между метамодернизмом и постмодернизмом. В каком-то смысле метамодернистская «осцилляция» схожа с постмодернистским плюрализмом и множественностью. В чем все-таки заключается разница между постмодернистской множественностью и метамодернистским маятником «раскачивающимся между 2,3,5,10, бесчисленными множествами полюсов»?
Эклектицизм и плюрализм — интересные аспекты современного культурного производства — они позволяют людям использовать множество пост-стилей. И это правда, что постмодернизм тоже обращался к плюрализму — особенно ярко он проявился в преломлении историзма в архитектуре. Однако мы считаем, что в постмодернизме отношение к прошлому совершенно иное, особенно в прочтении Джеймисона. Я бы сказал, что здесь отношение к прошлому является одним из факторов, определяющих то, что можно назвать эстетически приятным — это то, что Джеймисон называл эстетическим популизмом масс. В метамодернизме мы можем наблюдать другое отношение к пост-стилям — они часто используются как способ исследования возможностей. Мы ищем новые возможности, относясь к прошлому и традициям гораздо серьезнее, чем это делали постмодернисты. Хорошим примером могут служить работы Херцог и де Мёрон, в которых одновременно отражаются и момент модернизма, и реакция на постмодернистские годы — они пытаются порвать с постмодернизмом в ключе очень серьезной эстетики. И вместе с тем они создают и много романтического и готического — мы упоминали об этом в первом эссе. Другой переход к тому, что я считаю очень современным, связан с эстетикой геологической формы.
— Геологическая форма является метафорой или аллегорией?
Я бы сказал, что это больше связано с чувственностью. Интересно, что сегодняшний формализм не характеризуется безграничной свободой. Абсолютный формализм больше не возможен в основном потому, что существуют правила и ограничения, связанные с функциональностью здания – как, к примеру, «активный дом» проектируется с учетом движения солнца или ветра. Функциональность опять же ограничивает то, какой может быть форма. Это кажется мне интересным, потому что сложно придумать нечто по принципу «форма следует функции» не в модернистском ключе). Вы видите, что это не просто формализм — это ограниченный формализм. Он ограничен экологичностью, консервативностью.
— А что насчет архитектуры Захи Хадид или Даниэля Либескинда?
Это очень хороший пример игривого формализма.
— Являются ли их современные проекты продолжением деконструктивизма (деконструктивистского типа мышления) или же они все-таки становятся частью нового мира — мира метамодернизма?
Джеймисон однажды написал, и я с ним согласен, что из всех искусств архитектура и архитекторы наиболее близки к экономике. Это значит две вещи: во-первых, то, что среди всех видов искусств архитектура наиболее ясным образом отражает способы делать, думать и чувствовать. А во-вторых, то, что архитектура — самая «медленная» форма искусства, принимая во внимание регулирующие строительство законы, финансирование и многие другие факторы. Иногда это также означает, что здания проектируются за много-много лет до реализации, а свои знаковые постройки архитекторы реализуют как правило будучи уже в возрасте. Мне сложно говорить о Либескинде, поскольку знаю о нем немного, но что касается архитектуры Захи Хадид, могу сказать, что она находится в том же спектре игривого формализма, который мы видели в деконструктивизме, в блобовой или делезовской складчатой архитектуре. Здесь связь архитектуры с экономикой разворачивается, как в эффекте с Бильбао. Первые компьютерно-сгенерированные модели были также направлены на расширение возможностей формы. Я считаю, это было связано как раз с моментом постмодернизма. Любопытно, что дальше мы видим внезапное появление новой серьезности — Петера Цумтора начинают почитать, как никогда раньше. Он проектирует павильон Серпентайн в Лондоне, который обычно представляет собой не более чем место для вечеринок. Однако неожиданно павильон оказывается садом со стенами — своего рода олицетворение пост-кризисного момента. Сейчас мы видим большое количество подобных проектов. Кроме того, как мне кажется, здесь становится заметной некая эстетика геологии, которая принимает архитектурную форму. Все это также связано с современной чувственностью — в ней отражаются проблемы климатических изменений, проблемы ограниченного из соображений устойчивого развития формализма. Бьярке Ингельс здесь отличный пример. Людям также нравится Snøhetta, верно? Они тоже формируют своего рода эстетику заботы о климате, геологическую эстетику, как в оперном театре в Осло, который по сути является неким «ледником». И таково почти каждое здание, которое они сейчас делают. Так что, для меня еще один способ участвовать в этой дискуссии лежит через модернизм и поздний модернизм.
— Значит постмодернизм и есть поздний модернизм?
Да.
— То есть вы не отделяете постмодернизм от модернизма? Я спрашиваю, поскольку некоторые теоретики не признают постмодернизм — они рассматривают его в качестве трансформированного модернизма, ну, или, как Вы сказали, в качестве позднего модернистского стиля.
Да, я знаю. То же касается и архитектуры, верно?
— Верно, но как вы к этому относитесь? Вы рассматриваете эти два стиля/направления в качестве оппозиций или вы трактуете постмодернизм как продолжение модернизма в трансформированном ключе?
Это всегда сочетание продолжения и трансформации. И оно зависит от того, что подчеркивается в тот или иной исторический момент. Вы не можете сравнивать Ле Корбюзье с Вентури — сказать, что они из одного спектра просто невозможно. И я неспроста говорю о различиях между модернизмом и поздним модернизмом: мы видели четыре реконфигурации капиталистических обществ: первые две произошли в результате внедрения промышленного капитализма и фабричного производства. Существует реализм и модернизм и в литературе, и в культуре, и в архитектуре, однако все это — немного разные явления. В архитектуре, я думаю, важным аспектом, характеризующим эти два направления, является тема функционального предназначения. Встает проблема хаотичного города, который все еще остается перегруженным. Будь то Барселона или Манхэттен, архитектура Ле Корбюзье или архитектура брутализма — все эти примеры относятся к функционализму. Постмодернизм возник после того, как индивидуальный сектор разросся и начался аутсорсинг услуг со всеми вытекающими проблемами — еще до Второй мировой войны. И деконструктивистская архитектура, и блобитектура, и другие явления связаны с расширением среды в направлении к бесформенности. Или, иначе говоря, к бесконечным возможностям форм, поиск которых все еще ведется — все это можно увидеть и в метамодернизме. Я бы сказал, что эти два момента являются частью модернизма — их можно рассматривать как продолжение модернистских традиций, в котором форма преобразуется согласно текущим потребностям и адаптируется к сокращению выбросов. Я думаю, здесь легко можно выявлять различия между эстетическим уровнем и функциональным. Таким образом, я думаю, что все еще возможно идентифицировать определенные стили и соотнести их с определенными историческими моментами. Об этом трудно дискутировать, так как постмодернизм в архитектуре — это пост-результаты модернизма (или последствие модернизма), что само по себе является очень специфическим стилем. Когда вы используете тактику «Я просто сделал», вы выбираете стиль, который становится исторически распространенными в один конкретный момент. Тогда внезапно постмодернистская архитектура становится модернистской, а вновь нужными оказываются блобы, деконструктивизм, цифровая архитектура, архитектура складок и т. д.
— А архитектура «складок» (или складчатая архитектура) больше про постмодернизм или метамодернизм?
Про постмодернизм, я бы сказал, но я не эксперт, верно? Это основано на моих личных представлениях.
— Можно ли сказать, что складчатая архитектура продолжает традиции декоструктивизма в ключе делезовских представлений о складке?
Да, поскольку я думаю, что она связана с постмодернистскими моментами в культуре. Но, конечно, она также может быть использована для других назначений и целей, основанных на других ценностях. С моим ограниченным представлением об истории архитектуры я бы сказал, что делезовские складки тесно связаны с моментом расширения формальных возможностей. Но они также могут быть использованы и в литературе — здесь мы имеем метапрозу и иронию метапрозы. Вы можете увидеть то, как авторы используют это, чтобы создать нечто иное. В современной художественной литературе такие авторы, как Бен Лернер или Крис Краус, берут что-то строго постмодернистское и пытаются переосмыслить на метамодернистский манер. Возможно, то же самое происходит и в архитектуре складок, я не знаю.
— С нашей точки зрения архитектура «складок» довольно современна. Или точнее было бы сказать, что она предтеча современности. В каком-то смысле деконструктивистская архитектура для нас является ее началом. Архитекторы больше не цитируют Дерриду, но многие инструменты и методы, популярные в то время, используется до сих пор. Такое можно увидеть и в архитектуре, и в искусстве. Таким являются и новые проекты Рема Колхаса, к примеру.
Да, к примеру здание Де Роттердам Колхаса можно рассматривать как некую деконструкцию Манхэттенского силуэта.
— Или даже музей Прадо. Мы можем увидеть постмодернистские или декоструктивистские методы даже в архитектуре MVRDV. Я имею в виду все их цитаты, референции, отсылки на разные исторические моменты. Но вместе с тем все это может быть распознано как метамодернизм, как часть метамодернистской наивности и честности.
Да, я думаю это хороший пример.
— Да, но для нас часто бывает трудным идентифицировать стиль: является ли здание метамодернистским или постмодернистским? Некоторые принципы оказываются сквозными — они используются и тут, и там, и в постмодернизме, и в метамодернизме.
Поскольку это технический прием, верно? Коллаж, цитирование — это технология проектирования. В действительности можно наблюдать использование технологий, которые, в сущности, пост-постмодернистские, но также и постмодернистские. Но вы оказываетесь перенаправлены на новую эстетику, новую чувственность или новый опыт строительства, и в этом случае не стоит иронизировать в духе постмодернистской шутки Chip’n’Dale. Но должна быть искренность, наивность. Для меня это больше про современность, про сегодняшний день, чем про 80-е или 90-е. Мы часто говорим о стиле, но я думаю, что мы должны говорить о коллекциях стилей и о том, как эти стили или методы могут создавать новый стиль архитектуры. Технику можно использовать в обоих исторических моментах. Но для чего? И основываясь на каких принципах? Думаю, в этом вопрос. Но также я согласен с вами, что форма современности намного шире, чем сейчас. Как вы сказали, она начинается в 80-х и 90-х годах.
— Сегодня тема поисков связей между философией и архитектурой становится вновь актуальной. Можно найти большое количество примеров на эту тему. Об этом отчасти писал и Джеймисон в контексте феномена «транскодирования», однако специально эту тему он не разворачивал. Как вы считаете, каким образом философская мысль может быть переведена/транскодирована/преобразована в архитектурную форму?
Ну, в этом заключается основная сложность. Как вы переводите, как транскодируете, что происходит в материальных условиях и как это соотносится с культурными манифестациями — как говорить обо всем этом? По справедливости, мы можем говорить об этом на уровне культурной философии, культурологического анализа. Я думаю, что это также связано с вашим вопросом — как вы можете создавать архитектуру, а затем говорить об этом на языке философии и теории, принимая во внимание различные опосредования, которые также представляются в диаграммах и манифестах. Дело в том, что метауровень абстракции — это то, что я смог связать с конкретным манифестом, а именно со зданием. Тем не менее, более абстрактный уровень, такой как архитектурная критика, например, позволяет определить тот язык, с помощью которого становится возможным вести разговор на других дисциплинах. И это задача аналитиков — определить, как это можно сделать. Я думаю, просто делая или предпринимая активные действия. И когда достаточно людей смогут соотнестись с этим языком, тогда вы становитесь хорошим дипломатом, хорошим переводчиком.
— Мы бы хотели также затронуть тему спекулятивного реализма. Как вы понимаете «спекулятивный образ мышления»? Можно ли сказать, что спекулятивный реализм легитимирует плюрализм, а следовательно, продолжает постмодернистскую традицию пролиферации множественности? Как это отражается на архитектуре? Является ли зеленая, цифровая, устойчивая архитектура частью этого мира, наполненного спекуляциями?
Спекулятивный реализм может представлять множество вещей. Я думаю, что прежде всего он является методом. Он характеризуется возвращением своего рода метафизического момента в философии и основывается на первичных, базовых принципах, согласно которым вы можете начать думать, продумывать и придумывать, формируя системы, что, по сути, после смерти метафизики может выглядеть довольно агрессивным философским ходом. И примером здесь могут служить Рэймонд Мартин, Грэм Харман и др. И этот принцип может позволить обрести множество форм и очертаний, до тех пор, пока он остается в системе концептуального мира, который создан стремлением стандартизировать. Я спекулирую и в эту минуту, верно? Я пытаюсь сделать прыжок к тому, что вы говорите. Я не знаю, это просто интуиция. Это то, что я хочу сказать. Так что не ссылайтесь на меня по этому поводу. Адаптивная и сенсорная архитектура делает то же самое. Есть определенные принципы, последовательности: если это, то это. А затем системы снова становятся гибкими в характере манифестации. Таким образом, вы можете сказать, что они являются симптомом чего-то подобного, но это также становится возможным благодаря языку алгоритмов. Спекулятивный реализм часто функционирует как алгоритм: если A, то B. Если В, то С. «Умная» архитектура охватывает все углы и, возможно, каждый кусочек соединительной ткани. Я не думал об этом ранее. Таким образом, это чистое предположение, которое должно быть проверено строгой аргументацией и рассуждением. Вот и все. Как вы думаете?
— Я думаю, что алгоритмы, в определенном смысле, равносильны диаграммам (или же они часть диаграмм), поскольку диаграммы сами по себе алгоритмичны (или могут быть алгоритмичными). Я подвожу к тому, что спекуляции могут производиться диаграммами, не так ли?
Да, верно.
— Культуролог и философ Славой Жижек в одной из своих книг писал о том, что любые идеологии (включая и политические программы, и отдельные концепции) используют образ врага. А формулировка убеждений идет от обратного: от того, что «врагу» противопоставлено. Есть ли образ врага в концепции метамодернизма? Существует ли идеология, противопоставленная метамодернизму?
Когда мы говорим о культурном доминировании, мы автоматически оказываемся связаны с вопросом идеологии. Так что это совсем не странный вопрос, но он задается во множественном числе. Я говорю, как учил нас Хомский: не идеология, а идеологии. Некоторые из них являются доминирующим видом, а некоторые оказываются терпимыми и могут существовать где-то на периферии. К сожалению, когда вы смотрите в настоящий момент на культуру доминирования в большинстве западных капиталистических обществ, то обнаруживаете, что не существует общего идеологического русла — оно очень поляризовано. Но я думаю, что здесь присутствует и антропологический феномен, верно? Враг, который был создан на данный момент — беженцы. И это наиболее отчетливо видно в идеологических формациях, которые воспроизводятся по большей части правыми политиками по большей части на властном популизме. Но это также просачивается в основную политику. Датская лейбористская партия также сейчас говорит о формальной социал-демократии, которая сформирована только из тех, кто уже находится в Дании. Она не для иммигрантов или беженцев. И конечно это ново, но также и не ново. Он говорит об этом как политической константе, так как об этом уже говорят. Чтобы сформировать себя изнутри необходим некто со стороны, чужой. Но это также современно в том смысле, что когда речь идет о культуре и о том, кто к ней относится, а кто к ней не принадлежит, мы опять упираемся в постмодернизм с его расширяющим границы мультикультурализмом. Культурно соотноситься с утверждением о том, что кто-то может быть частью вашей культуры, а кто-то может быть допустим. Конечно, мультикультурализм не бесконечен. Он часто основывается на поддельном понятии толерантности —мы терпим вас, пока вы нас не беспокоите. Но это также «да, мы нация многих, многих культур, и мы все можем жить под одной крышей». Теперь, когда в метамодерне, в 2000-х и после 2000-х годов, произошли изменения, эти идеи стали распространятся не только среди популистов, но и среди авторитарных личностей. Об этом говорят и такие люди, как Ангела Меркель (о глубине мультикультурализма), голландский премьер-министр Марк Рютте, в Великобритании — Тони Блэр. Так что все они — сторонники определенного способа управления, который сейчас мы имеем как результат культурных трансформаций, изменений определенных условий в ответ на давление радикального популизма. Начинают говорить о мультикультурализме, но о нормативном государственном значении. Но, как только вы начнете с глубин, иммигранты или беженцы автоматически станут вашим врагом. Конечно, они могут быть интегрированы. Я думаю, что это самый доминирующий сдвиг. И опять же, что очень важно: вы никогда не морализуете будучи культурным аналитиком, вы просто делаете наблюдения о том, что произошло и что выглядит довольно проблематичным, но вы никогда не говорите о том, хорошо это или плохо. Что важно, если есть кто-то, кого вам необходимо понять, если вы хотите быть прогрессивным или хотите придать иной политический окрас — это тоже в порядке вещей. Но это то, чем вам необходимо проникнуться.
— А существует ли образ врага в метамодернистской архитектуре? То есть если постмодернизм может быть противопоставлен модернизму, что может лежать в оппозиции метамодернистской архитектуры?
Так что же является объектом противодействия? Это интересно. Я думаю, что это также связано с тем, что они оба являются частью одной и той же формы бытия, поэтому многие предварительные условия более или менее одинаковы. Но много предпосылок поменялось. Враг — это какая-то ироничная, игривая, странная архитектура? Я не знаю, это вопрос. Архитектура все еще игрива с точки зрения формы, но она не хочет быть просто игривой, но хочет также означать и делать что-то еще. Быть серьезной, быть вовлеченной. Быть как Бьярке Ингельс — он написал манифест в форме мультфильма. «Меньше значит больше». После он проиграл постмодернистскому моменту с «меньше значит скучно», а теперь возникло «да — это больше», верно? Существуют некоторые показатели, идентифицирующие вражду. Почему вы думаете, что нет образа врага в архитектуре?
— Постмодернистская архитектура близка к тому, чтобы стать «врагом» современности, однако современные тенденции и направления доказывают обратное. До сих пор некоторые идеи остаются популярными. Нет ярой конфронтации — потому трудно называть постмодернизм «врагом». А некоторые до сих пор любят постмодернистскую архитектуру.
Да, интересные наблюдения.
— В ситуации с Прюитт-Айгоу «образ врага» был сильнее выражен.
Да, абсолютно верно. Но тогда жест модернизма тоже был намного сильнее. Модернизм — своего рода навязывание формы здания, он может нуждаться и в реакции, которая гласит: встань и уважай традиции, местные кварталы, исторические стили, не будь нелепым. И этот модернизм был очень комплексным во многих вещах и включал также и юмор, может быть не в самом идеальном виде. Если вы как архитектор скажете, что эта форма архитектуры слишком увлекательна и забавна, то это будет говорить о том, что вы скучны — что является не очень хорошим утверждением. Архитектура прошлого могла быть приятной, комфортной. Может и так. Но она не была политически и социально вовлеченной. Больше нет шутливой архитектуры. Возможно, здесь кроется образ врага. Сложно сказать.
— Как вы относитесь к идее «смерти автора» Ролана Барта? В автомодернизме и диджимодернизме раскрывается очень интересный портрет современного человека, творца и потребителя. В них усиливается идея смерти автора Ролана Барта. Какова позиция автора в концепции метамодернизма? Согласны ли Вы с Кирби и Самуэльсом?
Конечно, есть что сказать по поводу исчезновения автора в коллаборациях. Я думаю, это то, о чем Кирби в основном пишет. На самом деле было бы несправедливо говорить, что это напрямую связано с концепцией Ролана Барта. Здесь исчезновение автора буквальное. Если серьезно, говоря о коллаборациях и даже об Интернет сетях в целом, все равно можно обнаружить очень маленький процент тех, кто создает контент, в то время как потребителей — вереница людей. Так что здесь все на нюансах. И я следую этой логике. На уровне эстетики это равнозначно тому, что они более не являются художниками или практикующими архитекторами. Вы можете мгновенно узнать Тойо Ито, Бьярке Ингельса, Херцога и де Мёрона, Заху Хадид. Еще существуют индивидуальные стили и в этом смысле они все еще авторы.
— Но они звездные архитекторы. Только они узнаваемы — лишь десяток архитекторов по всему миру можно узнать по их работам.
Я бы сказал, что это своего рода шаг к интервенционистской архитектуре. Современная архитектура социально обоснована. Если вы работаете с сообществами, можно легко распознать стиль, как например, «Средний палец» или Бильбао — это тоже своего рода стиль. Они не звездные архитекторы, но они — очень узнаваемые практики. А звездные архитекторы — часть культурных доминант — они наиболее обсуждаемы в Architectural Review. О ком говорят и пишут в газетах? Кто зарабатывает больше денег? Это важное обстоятельство, позволяющее понять, что доминирует на сегодняшний день. Сегодня из-за Интернета, из-за коллабораций больше не существует автора. Тоже самое распространяется и на литературе, верно? Но существует и огромный культ автора. Зэди Смит является автором. И я полагаю, что большинство романов, которые делаются совместно, являются онлайн фанфиком. Другой пример — Википедия, но в ней скорее смягчен результат. Это — не результат мысли большинства людей. Архитектура — тема, которая очень дорога моему сердцу, и я очень боялся много о ней писать. Я написал немного об этом в первой статье и для журнала MONU. Вместе с профессором истории архитектуры мы сейчас пишем книгу о современных тенденциях в архитектуре. Позже Вы сможете с ней ознакомиться.
— И напоследок, для нас также большой интерес представляет концепция гибридности или гибридов. В связи с этим возник вопрос, является ли гибридизация единственным способом создать нечто новое? Есть ли что-то помимо гибридов? Современная архитектура тяготеет к тому, чтобы использовать синтезирующие методы. Часто можно наблюдать, как соединяются воедино различные хорошо узнаваемые архитектурные фрагменты или детали. Их используют, вернее используют заново, чтобы создать новое на гибридный манер.
Я думаю, что Вы правы. Мне также кажется, что условий и возможностей для авангардистских моментов или любых иных форм инноваций, в которых торжествуется некий пуризм, больше нет — они невозможны.
— То есть единственное, что у нас есть — это гибриды?
Да, я так думаю. В книге [Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма] Йорг Хейзер говорит о супергибридности как о состоянии и о возможности, и я думаю, что в действительности гибридность — способ делать вещи. Но он зависит и от того, каким образом гибридность сформировалась, как был достигнут этот эклектизм. Тут возникает множество различий с постмодернизмом.
— Мы выбрали три вопроса от подписчиков русскоязычного журнала о метамодернизме. Не могли бы Вы прокомментировать эти вопросы.
- Во втором томе Капитализма и Шизофрении, Делёз с Гваттари описывают ситуацию или архетип некого номада, субъекта бегущего или исключённого из иерархической структуры или идеологического нарратива, находящегося на линии ускользания и ищущего по возможности другие структуры в которые он мог бы вклинится. Не считаете ли вы что это сходно с состоянием метамодерна, в котором мы, не имея больше мифологемы или идеологемы, в которые можно беспрекословно верить, не имея предзаданной модели или роли в быстро меняющемся обществе, вынуждены постоянно цепляться за любые возможные локальные нарративы, чтобы придать какое-то символическое значение нашей жизни и сформировать хотя бы на какое-то время устойчивое мировоззрение. Плывём от корабля к кораблю, если прошлый вдруг пошёл ко дну или выбросил нас за борт.
Для начала предварительные замечания. Быть метамодернистом или сам метамодернизм — это не что-то, что «замораживает» желаемое состояние бытия. Когда мы занимаемся культурным анализом мы избегаем морализирования – нет плохого и хорошего, но есть проблематизация. Имея в виду эти ремарки, я определенно должен ответить не так, как вы меня спросили.
Итак, шизофрения для Делёза и Гваттари создается самим капитализмом как форма субъективности и это потому, что капитализм, по сути, есть постоянно разворачивающийся и производящий то, что является новым — это главный аксиоматический принцип. В отличие от более «старых» обществ, в которых есть определенные способы блокировки роста или закрепления в состоянии негибкости, неизменности и т.д. Капитализм на самом деле должен моделировать это. Поэтому речь идет не о данном конкретном дне и времени, а о том, какова связь с этой формой субъективации и что мы на самом деле видим сейчас в эпоху деглобализации, в эпоху мобилизации плебеев против элиты.
Говоря о националистической культуре или о супер-национальных институтах в эпоху гегемона: например в США мы можем наблюдать, что центральная логика капитализма вновь ограничена слоями, характерными для данного конкретного момента времени. Так что ни я, ни мои коллеги, думаю не согласились бы с тем, что это новое состояние бытия. Кроме того, я не согласен с тем, что нынешнее состояние капитализма доминирующее, потому что то, что я только что сказал — капитализм — это не своего рода неконтролируемые моменты либерализма, но вновь пересмотренное, перепроверенное, пере-укрепленное на структурных уровнях каждой плоскости существования.
Но номад — «кочевник», почти противоположность. Номад на самом деле является наиболее доминирующим архетипом (если я могу использовать это слово), потому что он подозрителен, и, это например, не то, что заявляет нация. Необходимо пояснить, что весь мой ответ основан на нашей работе над западным капиталистическим обществом. Если речь идет о том, что происходит в России — я не знаю.
- Второй вопрос касается метамодерна и теории отрицания смерти Эрнеста Беккера. Если коротко, то эта теория устанавливает связь между инстинктом самосохранения/страхом смерти (фундаментальным для человека аффектом) и ответом на него в виде культуры, предлагающей героизм, буквальное или символическое бессмертие. Не является ли в таком контексте метамодерн, тоже связывающий аффект с нарративом, некой диссоциативной парадигмой, где перформативное и постироничное погружение в миф/нарратив позволяет ощутить этот самый смысл, с другой стороны критический мета-уровень всегда сохраняет скептическое отношение к легитимности такого мифа и как спасательный трос вытаскивает нас из погружения в этот миф, если это погружение перестаёт быть прагматичным.
Интересный вопрос. Я недостаточно знаю об Эрнсте Беккере, поэтому буду опираться в большей степени на тематику вопроса. И эта тема касается теории отрицания смерти и культуры героизма как символа бессмертия в литературе. Итак, на мой взгляд, годы постмодернизма сопровождались глубокой политизацией. Гегемонические установки сформировали уровень согласия с вопросом о том, как люди хотят, чтобы ими управляли. Это могло произойти относительно спокойно, и вы могли бы назвать это смертью политики — пост-политическими моментом. Как и в книге Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» это также означает, что есть много людей, которые на самом деле являются «последним человеком«, у которых нет ничего, ради чего стоило бы жертвовать собой, ничего, к чему можно было стремиться, и все заботы которых сводятся к достижению собственного комфорта по принципу «справиться с трудностями и выжить« что довольно просто в ситуации с таким обширным влиянием растущего общества потребления. То, что мы видим сейчас — это тоска по индивидам. Реполитизация здесь будет выступать как своего рода попытка преодолеть отрицание. Интересно, что когда дело доходит до мифа и того, чем он может быть, мы перестаем говорить просто об эстетике. Миф на самом деле очень важен в политике, и сейчас мы видим борьбу за то, каким может быть правильный миф. То есть сейчас мы выбираем миф. Если мы говорим, что героизм означает жертвовать чем-то для преодоления проблематичной ситуации, то прогрессивная форма мифа заключается в попытке пожертвовать излишествами повседневной жизни в пользу решения проблем глобального изменения климата. Это путь, приключение. То же самое на другой стороне спектра — там тоже есть героизм, но необходимо преодолеть тот факт, что наша культура подвергается нападкам со стороны людей с другими ценностями, и это делает слабее нас: феминисток, постмодернистов, культурных марксистов — все это также можно расценивать как историю о борьбе. Опять же, понятно, что я больше связан с прогрессивной нишей, но как культурный аналитик вы должны учитывать и то и другое, форма мифа основана на форме героизма: борьба с преодолениями и жертвами; поэтому я бы сказал, что в данный момент в культуре это явно доминирующее.
- Жак Деррида говорил, что нет ничего вне текста («текст — это абсолютная тотальность»). Какова позиция метамодернистов по этому поводу? Можем ли мы преодолеть текст, выйти за его пределы с помощью новой культурной парадигмы? Или же метамодернисты не ставят подобные вопросы и занимаются разработкой других концептов, если да, то таких (касательно лингвистики и филологии)?
Опять же, как философ культуры, я читал эссе Дерриды. Существует большое количество текстов и невозможно точно сказать, где останавливается один текст и заканчивается другой. Но если вы историзируете это и смотрите на это в перспективе культурного философа или культурного аналитика или культурного марксиста, вы не можете проникнуть сквозь поверхность — вы видите системные аспекты производства текста за пределами текста — подобный эффект также наблюдается в постмодернизме и далее. В живом мире полностью доминирует семиотика, и то, что спрятано от вас, является фактом того, что ваша часть мировой системы позднего капитализма не имеет отношения к вашей феноменологической ситуации. Я думаю, Дерриду можно также читать симптоматически. То есть не столько философски, сколько с точки зрения симптоматики, как обозначение момента в культуре, когда все становится текстами, обзорами. А систематические аспекты почти спрятаны в плоскости, не видны, не воспринимаются. Вот как бы я это прочитал. И что происходит сейчас, так это то, что системный мир очень хорошо виден и с точки зрения феноменологических внутренних проблесков. Хорошим примером является книга Бена Лернера, в которой он писал о Нью-Йорке 2012 года. Он писал, что погода была не по сезону теплая, потому постоянно что-то происходило: ураган Катрина 2012 года, ураган Сэнди и другие события. Так что, да, системное правило прямо на лицо, в отношении качества и изменения климата особенно. Я бы сказал, что да, нечто абсолютно точно существует вне текста, и система, которая, собственно, произвела текст, феноменологически теперь более доступна для поиска ответа на вопрос, что являет собой это «вне».
Изображения:
- Elbphilharmonie Hamburg 2016 / Herzog & de Meuron: https://www.archdaily.com/802093/elbphilharmonie-hamburg-herzog-and-de-meuron
- Changsha Meixihu International Culture and Art Centre 2019 / Zaha Hadid Architects: https://www.archdaily.com/929645/changsha-meixihu-international-culture-and-art-centre-zaha-hadid-design
- Serpentine Gallery Pavilion 2011 / Peter Zumthor: https://www.archdaily.com/146392/serpentine-gallery-pavilion-2011-peter-zumthor
Интервьюеры: Мари Миндиашвили и Светлана Наумова
Иллюстрация: Мария Серова