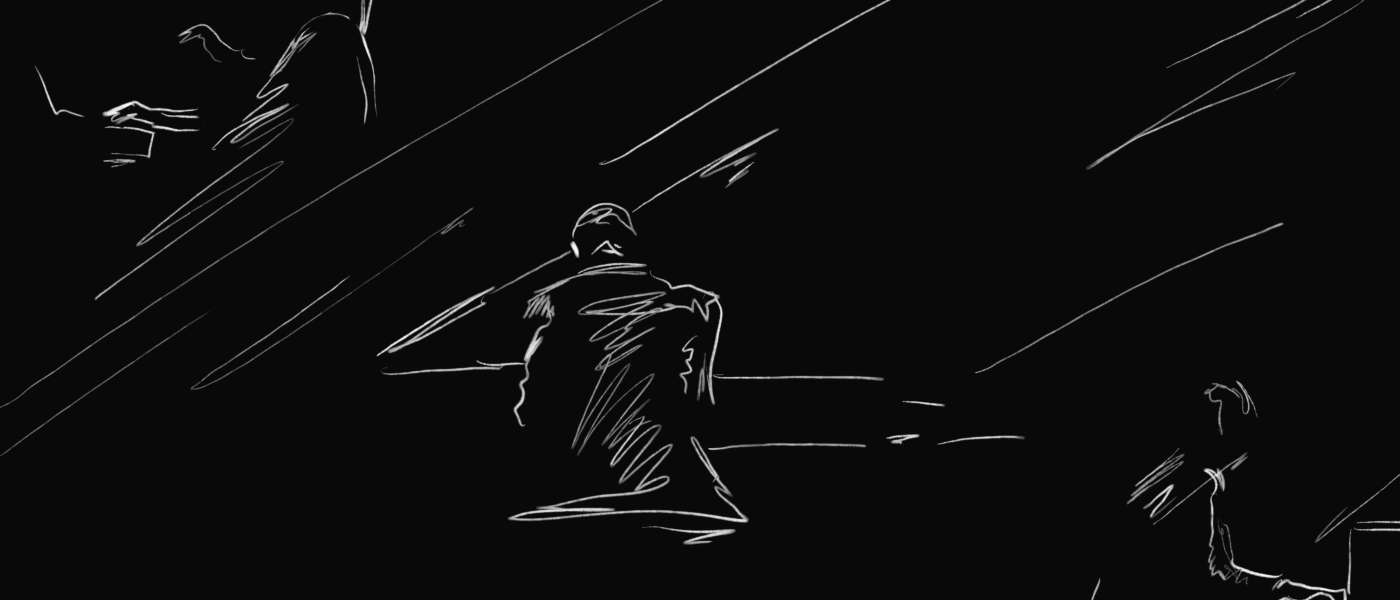Настасья Хрущёва
Мы <…> не столько создаем произведения, сколько производим определенные манипуляции над некоей уже существующей музыкальной данностью, и поэтому наши произведения — это не столько произведения, сколько posth-произведения, а наша музыка — это не opus-музыка, а opus-posth-музыка.
«Новая простота» — название группы советских композиторов, осознавших кризис авангарда в середине 1970‑х годов. В отличие от своих западных коллег, они пришли не к буквальному возвращению в поздний романтизм (как это произошло у Вольфганга Рима), а к постиронической по своей сути рефлексии над самой категорией романтического в музыке.
Это были Валентин Сильвестров, Арво Пярт, Владимир Мартынов, Алемдар Караманов, Александр Рабинович- Бараковский, Эдуард Артемьев и Георгс Пелецис. Они жили в разных городах и встречались не часто, и в общем даже не образовывали какого-либо объединения, но при редких встречах хорошо понимали друг друга и разделяли идею смерти авангарда — с которого, кстати, они все без исключения начинали.
Главное, что заставляет говорить о появлении метамодерна именно в движении «новой простоты» — это родившиеся и закрепившиеся в творчестве композиторов метамодерные аффекты, в частности — новая, отстраненная сентиментальность. Почему я так сентиментален? — называется один из опусов Рабиновича-Бараковского, и по сути, все творчество его коллег — ответ на этот вопрос. Интересно, что задолго до появления термина «метамодернизм» Сильвестров формулировал свой принцип через приставку «мета»: он говорит о метамузыкальном сознании.
Пути этих композиторов — как эстетические, так и географические — были разными.
Рабинович-Бараковский (р. 1945) начинал как авангардист, но в конце 1970-х переехал в Европу и там полностью поменял курс на антиавангардный: с этого момента он занимается репетитивной работой с романтическими паттернами. Он сам декларировал интерес к Западу — в противоположность американским минималистам, обращенным на Восток; параллельно с его поисками к аналогичным позициям приходит Симеон тен Хольт с его фундаментальным Canto ostinato. Георгс Пелецис (р. 1947) учился и до сих пор живет и работает в Риге, при этом стиль его был найден довольно рано и практически не эволюционировал. Владимир Мартынов (р. 1946), прежде чем прийти к сегодняшнему стилю, пережил довольно сложную эволюцию, подробно описанную им в автобиографических книгах. Эстонец Арво Пярт (р. 1935) прошел через сериализм и коллажную технику, прежде чем прийти к tintinnabuli, а его известность — единственного из всей группы — достигла мирового масштаба.
Но при всех различиях в траекториях творческого пути, степени известности, и даже стилях, представителей «новой простоты» объединяет главное: ощущение западноевропейской музыкальной культуры как бесконечного поля, отделенного от нас стеклянной стеной. Мы не можем туда проникнуть, но можем наблюдать за ним, и это нескончаемое наблюдение — процесс созерцания красоты.
Вот несколько ключевых для «новой простоты» сочинений.
Стена-сообщение (2007) Владимира Мартынова — 58 минут непрерывного дления для фортепиано — залатала (и одновременно) проделала экзистенциальную дыру в постсоветской русской музыке. Долбящий, ударяющий в одну точку ля минор — трезвучие, возвещающее конец эпохи, tuba mirum, свернувшаяся до «ударного» рояля, минимализм, отказавшийся от своей субстанциональной ритмической сложности, «русское бедное».
С 1970-х годов одержимый поиском новой ритуальности, он не находит ее собственно в церковной музыке — древнерусском пении, потому что тот Бог мёртв, и начинает изобретать собственную. И ответом для него становится минимализм, который даже сложно назвать этим термином, потому что он равноудален и от утвердительного праздничного трезвона Стива Райха, и от «сентиментальных» повторяемых мелодий Симеона тен Хольта. Это эсхатологический минимализм: беспощадные в своей простоте ветхозаветные послания, созданные из ветра и камня, это бесконечная ночь в Галиции, рассвета за которой не будет — но он и не нужен, когда есть непрерывный месседж без конца и края (и без «содержания»), письмо-в-настоящем продолженном, вечное сообщение.
Александр Рабинович-Бараковский. Музыка печальная, порой трагическая (1976). Рефлексия печали — уже в названии: музыка всегда могла быть печальной, но в ХХ веке стала стесняться называть себя таковой. Название Рабиновича-Бараковского постиронично: называя музыку трагической, ты тем самым лишаешь ее модуса собственно трагического, и в то же время это действительно печальная, порой трагическая музыка. Постиронический фокус здесь — что-то вроде надписи «это — трубка» на картине с трубкой, и Рабиновичу-Бараковскому он безусловно удается: вся эта музыка — метамодернистская ода печальному аффекту. Материал, который использует Рабинович-Бараковский — это барочные, классицистские и романтические кадансы, пассажи и другие общие формы движения: они повторяются долго и без видимой логической связи между собой, заставляя погрузиться в непрерывный поток, flux.
Николай Корндорф. Письмо Мартынову и Пелецису (1999). Главный персонаж этого «письма» (а может быть, его адресат? Или автор?) — однако, не Мартынов и не Пелецис, и даже не барочная или романтическая музыка, а фортепианный аккорд. Как он берется (медленно и быстро разглядываем), как он отпускается, во что он превращается при многократном — хочется сказать «до абсурда», но нет, до состояния непрерывного потока — повторении? Аккорд — главное «слово» фортепиано как инструмента, вглядываясь и вслушиваясь в него, мы получаем что-то вроде гиперреалистичного (а значит, точного и подробного до неузнаваемости) «портрета рояля». Связан ли прощальный характер этой музыки с годом написания (1999)? Это не столько прощание, сколько встреча — встреча с рубежом, и на этот раз — рубежом тысячелетий.
Александр Рабинович-Бараковский. Die Zeit (2000). «Все, что пишется А. Рабиновичем с конца 1970-х, представляет собой один бесконечный «Экспромт» Шуберта, тонко варьируемый, напоенный лирическим восторгом, излучающий тихое и ясное сияние интимной гимничности, характеризующей высокую песенность Шуберта. Надо добавить, что «Шуберт» у А. Рабиновича абсолютно таинственен, при всей его знаковости и „знакомости“». Вообще именно Шуберт становится важной фигурой для композиторов «новой простоты»: впоследствии Мартынов напишет Неоконченный квинтет Шуберта, Шубертом наполнены и Тихие песни Сильвестрова. Шуберт — современник Бетховена (он умер на год позже великого классика), и, будучи первым романтиком, находился во временном поле классицизма. Возможно поэтому его романтический порыв укоренен, заземлен классицистской системой, а значит — кажется внешне статичным. Это, кстати, отличает Lied Шуберта от шумановской: если Шуман в каждой своей песне будет показывать утонченный, детализированный, тонкий психологизм, то Шуберт предлагает нам доходящую до предела простоту усредненного, обобщенного и, главное, статичного образа. Именно Шуберт в большей степени работает со статичным аффектом, а также с простотой, доходящей до банальности — и этими качествами он резонирует с метамодерном. Если музыка печальная, порой трагическая — рабиновичевская меланхолия, то Die Zeit — его эйфория, на этот раз нескончаемая. В первые несколько секунд звучания этой пьесы мы оказываемся как будто бы в ликующем финале какой-либо шубертовской сонаты. Но уже через 5–7 повторений становится ясно, что здесь что-то не так — мы попадаем во временную петлю, и обречены на вечный восторг.
Георгс Пелецис. «Новогодняя музыка» для фортепиано (1977). Объектом музыкальной рефлексии здесь становятся праздничные юбиляции: от детских новогодних песен до протестантских хоралов; причем Пелецис, как и другие представители новой простоты, ничего не цитирует, а только воссоздает их дух. В отличие от других сочинений, рассматриваемых в этом ряду, в Новогодней музыке присутствует модус детского: то ли детского исполнительства, то ли детского мироощущения — завязанного на эйфорическом переживании предчувствия праздника. В итоге — когда такты, плотно прилаживаясь друг к другу, выстраиваются в огромное здание — модус детского трансформируется в метамодерную эйфорию без начала и конца.
Николай Корндорф. «Ярило» (1981). Вновь актуализировавшимся метанарративом для Корндорфа здесь оказывается языческое, а музыкальной краской для его изображения — диатонический Ми мажор, довольно долго держащийся без случайных знаков, а после их появления сверкающий только ярче и становящийся только определеннее на протяжении всех 36 страниц. В отличие от многих других произведений новой простоты, здесь нет ритмической регулярности и вообще внятных ритмических паттернов, вообще весь текст записан без тактовых черт — а значит, предполагает импровизационную свободу. Однако Корндорфу удается таким образом выстроить музыкальную логику этого материала, что чем дальше, тем более неизбежной кажется каждая следующая нота — как неизбежным становится восход солнца, точнее, появление Ярила. Без повторения паттернов и использования принадлежащих какому-либо канону интонационных фигур Корндорф воспроизводит сакральный акт: священнодействие начинается с первых же нот и не отпускает до самого конца.
Путешествие, письмо и красота
В иконографии композиторов «новой простоты» выделяются образы путешествия, письма и красоты.
Путешествие при этом понимается не как буквальное путешествие в пространство экзотики (как это чаще всего было в музыке романтизма и импрессионизма), а как психоделический трип — исследование глубин собственного сознания — кстати, развивающиеся параллельно разные направления неакадемической музыки этого времени как раз исходили из различных «веществ». Это экзистенциальное путешествие слышно в Рассказе о странствии (Рабинович-Бараковский).
Красота возникает в результате постиронического акта — такова четырехрояльная La belle musique (Прекрасная музыка) Рабиновича-Бараковского (1987), и его же двухрояльная Liebliches Lied (Прекрасная песня). Вообще открытие постиронии — как феномена, а не термина — сообщило музыке композиторов новой простоты еще и новую прямоту: именно в их творчестве такие наивные — а на самом деле иероглифические — названия перестали звучать простодушно/вульгарно/тенденциозно и обрели объем, вес и красоту. La belle musique у Рабиновича-Бараковского становится уже не названием, а жанром — он пишет La belle musique номер 2, 3, 4…
Письмо осциллирует разными смыслами. С одной стороны, это рефлексия неспособности музыки нести какой-либо месседж — название в этом смысле возникает от противного: в «письме» нет слов, а значит — оно принципиально невербализуемо, и осознание этой невербализуемости ставит крест на бетховенской модели музыки-идеи (Переписка Мартынова-Пелециса, Письмо Пелециса
Мартынову Корндорфа, в смысле анти-сообщения можно трактовать и мартыновскую Стену-сообщение). С другой — это, наоборот, ощущение переворотного момента, ощущение важности послания: все эти письма ощущаются как сверх-важные сообщения.
Музыка Письма Пелециса Мартынову родилось из реального письма (письма-События?) Георгса Пелециса Владимиру Мартынову, где он описывает свой сон. «Я был в полном и сладком оцепенении. Единственная реальность и то, что меня полностью захватывало, — была музыка. Это был удивительный и бесконечный поток самого различного внутреннего качества, ничто не повторялось, но внешне — одинаково прекрасный и без перепадов уровня состояний». Сон Пелециса — это сон о потоке, которым когда-то была музыка, и которым — все композиторы «новой простоты» об этом грезили — она должна снова стать.
Начало времени композиторов
Мартынов-композитор отличается от большинства других минималистов фундаментальностью и драматической мощью: повторение фрагментов у него не отстраняет их прямой месседж, а как будто придает им миросозидающий — или, что то же самое, мироразрушающий — масштаб. Композитор Джачинто Шельси оценивал музыку по тому, может ли она разрушить стены Иерихона — так вот, музыка Мартынова может. Его собственный «сорт» минимализма — минимализм эсхатологический: и это не просто ощущение конца мира <композиторов>, а реальное, ветхозаветное чувство времени — в его смерти. Именно об этом — стучащий звук фа в самом конце Стены-сообщения.
Мартынов-теоретик отличается от большинства других современных музыковедов той же «несовременной» фундаментальностью. И хотя он пишет об определяющей поэтику григорианского хорала «страшной и обжигающей реальности достоверности спасения», которую мы не можем уже «ни вынести, ни воспринять, ибо реальность эта скреплена силами и энергиями, во много раз превосходящими силы и энергии того мира, в котором живем мы теперь» — возникает ощущение, что он сам способен если не на ощущение достоверности спасения, то на страшную и обжигающую тоску по нему.
Конец времени композиторов Владимир Мартынов констатировал в своей ставшей скандально известной книге в 1999 году, но подлинную актуальность эта идея обретает именно сегодня. Тотальный Интернет стал тем медиа, которое сделало безусловными многие вроде бы очевидные, но далеко не всеми понимаемые и принимаемые выкладки Мартынова о месте композитора в со- временной культуре. Эпоха музыки res facta — музыки, записанной прежде чем быть исполненной, музыки, с появления которой отсчитывается начало «времени композиторов» — сегодня сменяется реальностью, где музыка все чаще создается в специальных программах — Cubase, Soundforge и т.д. — иногда и во время концерта, а запись ее в виде нотного текста зачастую отсутствует в принципе.
Предсказанное Мартыновым будущее — растворение в неавторском, истаивание фигуры композитора, кризис опуса — все больше становится настоящим, причем само это становление произошло не путем апокалипсиса, а путем мягкой незаметной эволюции: «конец света уже наступил, но этого никто не заметил» — напишет Мартынов через десять лет в другой своей книге. И это самое точное, что можно сказать о травме, произошедшей с академической музыкой с приходом быстрого Интернета.
Такой незаметный конец света — сладкий апокалипсис — основное онтологическое переживание метамодерна, и Мартынов, не употребляя этого термина, становится главным его музыкальным теоретиком. Книга Конец времени композиторов по сути манифестирует новое время метамодерна, хотя автор говорит о пространстве постмодерна и употребляет такие термины как «бриколаж». Симптоматично, что эта книга была издана в 1999 году, а, например, не в 1979: в это время постмодернизм как направление практически закончился, рефлексия этого «конца времени постмодернизма» и порождает мартыновский текст.
«Конец времени композиторов» никак не связан с интенсивностью работы Мартынова-композитора (самый часто задаваемый вопрос читателя — «почему он продолжает писать музыку сам, если пригласил на казнь всю профессию?»). И не только потому, что из его теоретических построений никак не следует физическая невозможность писать музыку дальше. Мартынов выступил глашатаем конца времени композитора-демиурга, композитора-драматурга и нарративной драматургии как таковой, композитора-автора-разнообразных-сочинений, композитора-с-тремя-периодами-творческой-биографии, композитора-новатора и тысячелетней концепции композиторского авторства, завязанной на стратегии непрерывного обновления. Единственный путь, который он оставляет для композитора — и которому приговаривает себя сам — это самоподжог: растворение в над-авторском, в бескомпромиссно примитивном, в изначальном.
Почему можно говорить об утверждении этой книгой именно мета-, а не постмодерна?
— термин «бриколаж» считается постмодернистским, Мартынов и берет его из работы Леви-Стросса. Однако то, что Мартынов подразумевает под бриколажем в музыке, скорее приложимо к тому, что делает Сильвестров в Тихих песнях, чем кто-либо из музыкальных постмодернистов.
— растворение в надавторском — опять же, именно в том смысле, который вкладывает в это понятие Мартынов, означает скорее метамодерную «смерть смерти автора».
— творчество самого Мартынова не только почти целиком может быть отнесено к музыкально-академическому метамодерну, но и в высшей степени передает его суть. Мартынов в своих книгах — по сути являющихся внутренними автобиографиями — подробно описывает собственный приход к своему типу музыки, а также приход к ней его ближайших по духу коллег Сильвестрова, Пелециса, Пярта, Рабиновича.
— конец эпохи реальности Откровения, о котором говорит Мартынов, приходит к своим наиболее фатальным последствиям именно в эпоху постмодернизма — позднего капитализма — когда реальность полностью замещается симулякрами. Поэтому острие мартыновской критики можно считать направленным как раз на постмодернизм, если вообще принимать оппозицию постмодерн/метамодерн (последнего термина к моменту написания Конца времени композиторов еще не было).
Конец времени композиторов — это перенесенный на музыку исчезающий человек Мишеля Фуко: «человек, исчезающий на наших глазах, подобно тому, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке, — это не поэтическая метафора и не метафизическое умозрение, это реальный факт, суть которого заключается в смене информационных технологий. Исчезающий человек Мишеля Фуко — это человек галактики Гутенберга, это homo aestheticus, или человек музеев, концертных залов и картинных галерей».
В своих текстах Мартынов выстраивает следующую цепочку музыкальных практик: «устная традиция / cantus planus — рукописная традиция / музыка res facta — нотопечатание / opus-музыка — звукозапись / opus posth-музыка»; в его понимании, однако, opus posth — не последняя остановка, а ступень к чему-то большему.
В этом смысле книга Конец времени композиторов — на самом деле не о конце, а о начале: «по-настоящему конструктивный вопрос будет звучать так: „Что происходит после смерти музыки как пространства искусства?“ или „Чего нам ждать после этой смерти?“. Именно на такой вопрос стоит искать ответ».
Что же большее приходит на смену времени композиторов? Какое начало следует за концом?
Это большее для Мартынова — поток, и именно потоком — а не прибрежной волной — смывается в его понимании лицо «человека эстетического» на прибрежном песке.
Поток — это музыка, которая нас не интересует, а захватывает, причем захватывает даже не собой, а в себя: музыка-бытие, бытие-в-музыке — раз попробовав такое, не соглашаешься на меньшую дозу. Таким «наркотиком» для Мартынова в какой-то момент стали традиционные для всех минималистов явления — рок-музыка, фольклор и Восток, а также его личный вид трипа — древнерусское пение. С 1978 по 1986 Мартынов полностью прекратил сочинять академическую музыку и занялся древнерусским богослужебным пением: он преподает в Троице—Сергиевской лавре, подробнейшим образом изучает источники, пишет свой собственный трактат — Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси.
Поток — это метафора старой, давно утраченной докомпозиторской музыки: «раньше звуковой поток существовал помимо человека и вне человека, и человек должен был войти в этот поток, вписаться в него, слиться с ним, чтобы составлять с ним единое целое. Для людей великих культур древности этот звуковой поток представлял собой поток космической энергии, для христиан I тысячелетия этот звуковой поток представлял собой поток Божественной благодати». Но поток — это метафора и музыки только что начавшейся, музыки эпохи, в которую мы только вступаем.
Поток — это пространство музыки надавторской, где полностью растворяется фигура композитора: «При вступлении в поток личные особенности вступающего не имеют решающего значения, ибо кто бы ни вступал в поток, поток всегда остается одним и тем же, а потому вступление в поток требует от человека только одного, а именно навыка максимального погружения в поток и слияния с ним».
Поэтому в идее и концепции конца времени композиторов самое главное — начало; причем это начало новой музыки — медитативной, потоковой, интернетной — переживается Мартыновым не как трагедия, а как праздник. Мартынов пишет в связи с композиторами новой простоты: «идеи «смерти автора», «смерти субъекта», «смерти авангарда» и композиторской музыки вообще звучали для нас не погребальным перезвоном, но радостным благовестом, ибо главное <…> для нас заключалось не в констатации летального исхода сложившихся представлений, но в открытии новых волнующих горизонтов, новых перспектив, новых возможностей взаимоотношений человека с музыкой».
Эпоха метамодерна сегодня знаменует ту эйфорию, которая проистекает из ощущения нового потока; то Начало, которое всегда подразумевалось Мартыновым под Концом времени композиторов.